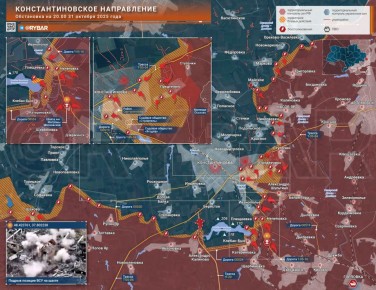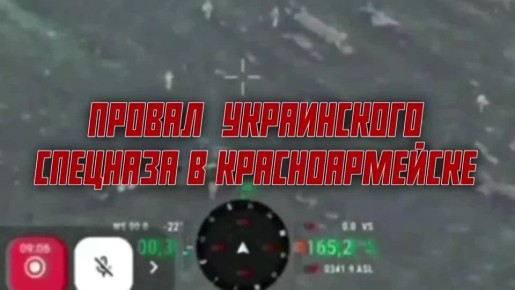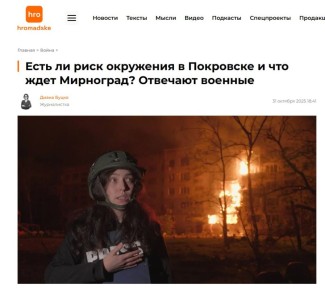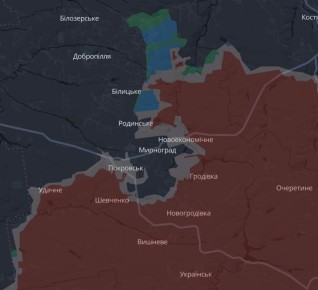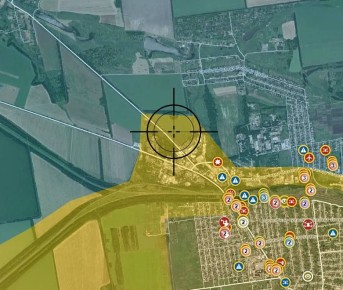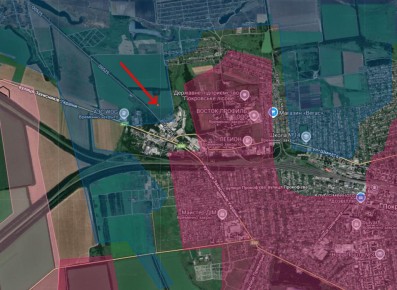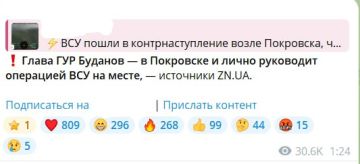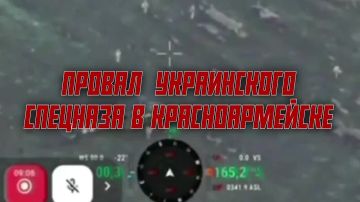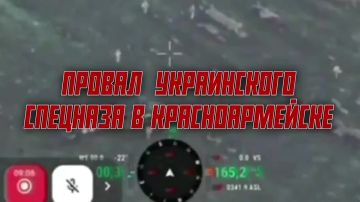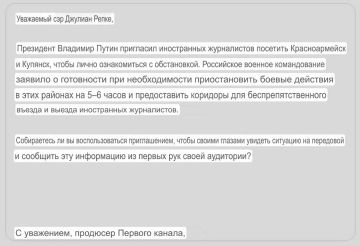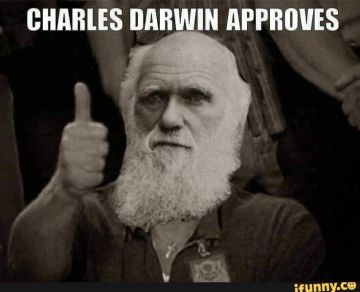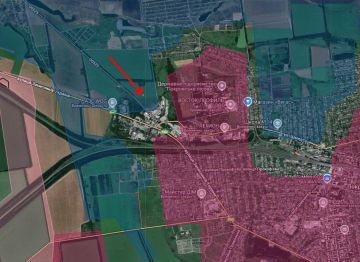Академик Абел Аганбегян – человек, который помнит и Госплан, и приватизацию, и кризис-98, и ковид, и что было между ними. 93 года, а цифры, проценты, соотношения – всё в голове. И вот он говорит: изучать российскую экономику – грустно.
С 1991 года наш ВВП вырос на 33%. В США за это время ВВП удвоился, в Европе он стал больше почти вдвое. Даже постсоцстраны выросли 2,5 раза, Индия в восемь, а Китай в тринадцать. Мир ушел в гиперскорость, а мы всё ещё буксуем, как старый грузовик, у которого мотор не тянет, а за рулем спорят, кто виноват: дороги или погода.
Аганбегян не обвиняет и не драматизирует, он констатирует: мы создали социально-экономическую систему без двигателя. Без нормального рынка капитала, без конкуренции, без стратегического планирования, без того самого механизма, который делает рыночную экономику живой. Плановую систему разрушили, рыночную не построили. В итоге – технологическое отставание, а энергетика (буквально и метафорически) уже не справляется: дефицит 50 ГВт, и это только начало.
Он называет конкретные цифры: инвестиции в основной капитал – 18% ВВП. У Китая – 45%. У развитых стран около 20%, у развивающихся - 30–35%. Монетизация экономики в России – 50–60% ВВП, в Японии - почти 300%. В Китае 350 фирм-единорогов, у нас ни одной. Там же – 536 крупных инновационных компаний, а у нас почти нет. В Китае доля высокотехнологичных товаров 18%, в США - 25%, у нас - 1,3%. Не экономика знаний, а экономика забывания.
Но у Аганбегяна есть рецепт. Он не звучит как утопия - скорее как инструкция по ремонту двигателя, если ещё не поздно: чтобы запустить рост экономики, нужно дополнительно 10 трлн рублей в год инвестиций. И дешёвые длинные кредиты — под 3–5%. Массовое техническое перевооружение производств, новые мощности, инфраструктура. Необходимы вложения в строительство и автопром, как в отрасли с самым большим мультипликационным эффектом. И всё это – под управлением стратегического планирования, а не ситуативных решений.
Его гипотеза проста и красива: если довести долю инвестиций в основной капитал и экономику знаний хотя бы до 45% - Россия поедет. Не вразнос, а ровно, устойчиво, с тягой вперед. А борьба с инфляцией не в тормозах, а в моторе. Чем мощнее предложение, тем ниже цены. И чем сильнее экономика знаний — тем больше у страны шансов не греть прошлое, а строить будущее.
Аганбегян — не ностальгирующий старик, а свидетель вечности. Он видел, как план превращается в хаос, как деньги становятся смыслом, а смысл теряется в инфляции. И все еще говорит спокойно: «Без мотора далеко не уедем». И, похоже, прав.